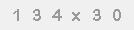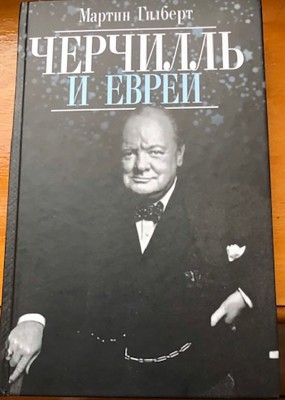
Раздумья вокруг книги Мартина Гилберта «Черчилль и евреи»,
М.;Иерусалим:2010, 400 стр.
Несколько месяцев назад, когда в мире началась разыгрываться безумная драма крушения исторических памятников, инспирированная воинственными левацкими движениями, ратующими за «перестройку» существующего «несправедливого» миропорядка, к числу крамольных сооружений была отнесена и величественная статуя Уинстона Спенсера Черчилля высотой в 3,7 м, возведённая на Парламентской площади в центре Лондона.
Памятник был открыт в 1973 г. супругой покойного - Клементиной при участии королевы Англии. Потребовалось персональное вмешательство Бориса Джонсона – премьер-министра Англии, заявившего, что он лично выйдёт на защиту памятника этого великого британца, пользующегося колоссальным авторитетом в народной памяти, бывшего, в частности, премьером страны в самые грозные военные годы.
И вот у меня в руках томик Мартина Гилберта, посвященный анализу характера взаимоотношений Черчилля с евреями. Автор этой книги, имеющий российские корни, к сожалению, ушедший из жизни в 2015 г. в возрасте 78 лет, известный британский историк, автор более 80 книг, признанный официальный биограф Черчилля, подключившийся к этой ответственной и неимоверно почётной деятельности благодаря настойчивости сына Уинстона – Рэндольфа.
У меня эта книга вызвала огромный интерес не только своим глубоким анализом событий давно минувших лет, связанных с историей возрождения еврейского государства, но и отсюда возможностью более широкого осмысления событий сегодняшнего дня. В частности, перипетий недавнего подписания в Вашингтоне т.н. «Авраамических соглашений» между Израилем, с одной стороны, и ОАЭ вкупе с Бахрейном, с другой стороны. Тем самым подтверждается один из прогнозов Черчилля, отдавшего немало своих сил, энергии и убеждённости в целях доказательства исторической справедливости и правоты идеалов сионизма.
Почти сто лет назад Черчиль многократно подчёркивал, что практическая реализация этих идей потребует многих десятилетей, особенно в контексте вероятности широкого непризнания еврейского государства его многочисленными арабскими соседями, априори не воспринимавшими нового «незванного» визави не только юридически, но и фактически, ментально, что особенно сложно.
Одно из главных бесспорных достоинств этой книги, как очень важного неординарного, методологически бесценного и взвешенного документа, проливающего свет на давно минувшие годы, заключается в следующем. Эта книга являет собой своеобразную лакмусовую бумажку, подтверждающую стратегическую достоверность и состоятельность убеждений Черчилля в конечном триумфе идей сионизма.
Сегодня, осмелюсь подчеркнуть, причём в принципиально иной исторической ситуации: человеком, фактически принявшим на себя смелую эстафету яркого последователя идей Черчилля в реализации практики сионизма, выступил 45-й президент США Дональд Трамп. И хотя эти две фигуры малосопоставимы между собой, тем не менее факты неопровержимо свидетельствуют, что именно Дональд стал той первой исторической личностью, которая, несмотря на все застарелые и вновь образовавшиеся препятствия, сумел встать на путь официального признания от имени США древнего Иерусалима единной и неделимой столицей еврейского государства. Мало того, ему удалось в процессе миротворческих усилий на коротком отрезке своего первого президентского срока значительно расширить брешь в стене до селе, в общем то, «монолитного арабского единства» на почве открытой вражды и непризнания Израиля. Раздвинув тем самым клуб перспективного арабо-еврейского взаимпопонимания и сотрудничества с двух стран (Египет, мирный договор от 1979 г. и Иордания – от 1994 г.) до четырёх (ОАЭ и Бахрейн, соглашения от 15 сентября 2020 г.). Причём, будем надеяться на его дальнейшее расширение в недалёком будущем за счёт членства целого ряда новых арабских стран, уже созревших и дозревающих для подобного рода шагов.
Между тем, если Трамп сумел прозорливо подхватить эту благородную инициативу и ощутить её первые, пусть даже очень скромные, а в чём-то возможно илюзорные плоды, то начинался этот скользкий и во многом кажущийся безнадёжным путь Черчиллем с весьма частых безрадостных сюжетов.
К примеру, 75 лет назад, в начале 1945 г., т.е. менее чем за три года до голосования на Генеральной Ассамблее ООН по вопросу о разделе Палестины между арабами и евреями и возрождении Израиля. Рузвельт и Черчилль встретились тет-а-тет на борту американского военного корабля «Куинси», стоявшего у берегов Египта, с королём Саудовской Аравии Ибн Саудом, отцом нынешнего монарха этой страны, пользовавшегося огромным авторитетом в мусульманском мире. Итог этих встреч оказался отрицательным. Король дал ясно понять, что его единоверцы никогда ни при каких условиях не согласятся принять на «своей» земле «чужаков». На вопрос Черчилля, как же быть с тысячами еврейских беженцов, оставшихся без средств существования, без крова, силой изгнанных с насиженных веками мест, Ибн Сауд ответил: «Помогите им обосноваться вновь там откуда их депортировали» (с.287). Как говорится, крышка захлопнулась. Очередной тупик. Спустя три четверти века, уже в наши дни Трамп приобрёл в лице нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана – сына Ибн Сауда, заинтересованного партнёра, кровно озабоченного налаживанием серьёзных отношений с Израилем. В силу целого ряда меняющихся глобальных обстоятельств многие мусульманские страны сочли во имя обеспечения собственной безопасности искать пути для сближения с Израилем. То о чём мечтал, в частности, Черчилль, буквально пестуется на наших глазах усилиями Трампа.
Однако для большей убедительности, давайте всё же по порядку, ибо у нас не может не возникнуть вопрос: в силу каких причин Уинстон проникся чувством глубокого понимания еврейских проблем, сопереживания той безысходности, которая с разной степенью интенсивности сопутствовала образу жизни этого небольшого народа, не пожелавшего в течение многих веков мириться со своим трагическим положением.
Для соразмерной ясности наших последующих суждений напомню, что Черчилль родился в 1874 г. в знатной семье герцегов Мальборо и дочери богатого американского бизнесмена. Ушёл он из жизни в весьма почтенном 91-летнем возрасте, хотя явно имел лишний вес, не расставался с терпкой кубинской сигарой и предпочитал, особенно последние годы, армянский коньяк «Двин», который ему по дружбе в годы Второй мировой войны аккуратно презентовал Сталин – ящик в месяц. Так свидетельствуют историки. Что касается его пожизненной преданности идеям сионизма, то она имеет под собой немало очевидных оснований.
С раннего возраста Уинстон не мог не впитывать в себя атмосферу, сложившуюся в родительском доме, глава которого – отец семейства – лорд Рэндольф Черчилль был известен своей тесной многолетней дружбой с целым рядом высокопоставленных евреев, вхожих и признанных высшим обществом Англии. Это достаточно часто вызывало неприятие и усмешки среди определённой части британских аристократов, не лишённых предрассудков антисемитизма.
Тем не менее, с годами эта дружба, покоясь по большому счёту на фундаментальных общечеловеческих ценностях, перетекла от родителей к их детям. В результате чего, Уинстон, следуя традициям отца, в течение всей своей жизни не только продолжал теснейшим образом поддерживать эти связи, но и принимал близко к сердцу одолевающие их проблемы, упорно стремясь к их разрешению. Если при этом учесть, что основная часть большой жизни Черчилля прошла в высокой политике, включая лидера страны, то станет более понятным, что речь идёт прежде всего о его стремлении содействовать законному возвращению еврейского народа на свою историческую землю. В кровавые годы Второй мировой войны Черчилль спас тысячи еврейских жизней, добиваясь через парламент дополнительных квот на их въезд на территорию Палестины, что пресекалось всей мощью британского закона и оголтелой враждебностью местного населения.
Судя по всему, эти отношения изначально не были переплетены какими-либо серьёзными меркантильными соображениями, а покоились в основном на личном взаиморасположении, симпатиях и общности многообразных интересов, свойственных людям столь высокого ранга. Что касается внутреннего кредо Черчилля в отношении своих многочисленных еврейских друзей, то оно было однозначным и выражалось им следующим образом: «В Англии антисемитизма быть не может, поскольку англичане не считают себя глупее евреев». Во всяком случае, эта трезвая мудрая уверенность позволяла Уинстону держаться в стороне от бытующих вокруг расхожих предрассудков. В отличие от многих своих политических соратников по Консервативной партии, и не только, он никогда не воспринимал всерьёз и обходил стороной живучий порок юдофобии . Вот как автор книги характеризует линюю взаимоотношений Черчилля с евреями уже в достаточно зрелом возрасте: «До 1904 г. (Уинстону около 40 лет – В.К.) Черчилль общался с евреями исключительно в рамках светских мероприятий жизни. Но в течение четырёх лет после его избрания в парламент это общение постепенно приняло политический характер и со временем стало одним из решающих факторов его карьеры» (с.19).
Насколько известно, ярковыраженные сионистские помыслы в среде нееврейской политической элиты были свойствены не только Уинстону Черчиллю. До него этими идеями серьёзно увлекался Наполеон, признанный сегодня первым европейским политиком, ратующим за возрождение еврейского государства.
7 марта 1799 г. его войска взяли Яффу, после чего направились к Аккре. Именно в это время Наполен обнародовал своё «Воззвание к евреям Африки и Азии», подписанное совместно с Иерусалимским ребе Ахароном, в котором предложил восстановить при поддержке Франции «земли Израилевы...» Однако эта идея из-за противостояния с Англией оказалась несостоявшейся и получила новое развитие лишь спустя более чем 100 лет в Декларации Бальфура – тогдашнего министра иностранных дел той же Англии, переданной 2 ноября 1917 г. в руки лорда Ротшильда. Текст этого документа уведомлял Сионистский комитета Великобритании о благосклонном отношении Правительства её Величества в деле возрождения еврейского государства на территории Палестины с одновременно приложенным уже в 1922 г. Мандатом Лиги Наций о передаче управления данной территорией в руки Англии.
Казалось бы, всё складывалось более чем благоприятно. Англия – одна из стран победительнец в Первой мировой войне, перехватив в 1922 г. из рук поверженной Турции Мандат Лиги Наций на управление Палестиной вкупе с Декларацией Бальфура, давала как бы понять, что путь к возрождению еврейского государства открыт. В одних руках отныне и Мандат, и Декларация. Чего же более! Однако всё оказалось намного сложней и трагичней. Последующая вскоре Вторая мировая война, фашистская Германия, Холокост и шесть миллионов еврейских жизней оказались фактической платой за возрождение еврейского государства, начавшего отсчёт своего нового времени аж с 14 мая 1948 г.
В перипетиях этой истории никак нельзя умалить роль Уинстона Черчилля, сыгравшего неповторимую роль в судьбе еврейского народа, как убежденный сионист и поборник его прав. Несмотря на то, что его страна и многие влиятельные политические деятели, олицетворявшие её позицию и на международной арене, были не в восторге от просионистских убеждений и практических действий своего лидера. Книга Мартина Гилберта служит документальным свидетельством этих фактов.
Одним из важнейших стратегических мотивов увлечённости Черчилля сионизмом являлась его большая надежда, что эта идея сможет оторвать евреев от порочного в своей основе большевизма, которое определялось им как «еврейское движение». Он пришёл в ужас, когда, изучая личные дела руководителей Октябрьского переворота в России, обнаружил в их рядах ничем не оправданное доминирование евреев (с. 55). Уинстон был убеждён, что во имя всеобщего блага в целом и евреев, в особенности, этот «один из самых заметных и выдающихся народов, появившихся на свете» (с. 56), должен быть вырван из абсурдного круга застарелой утопии о возможности всеобщего равного благоденствия человечества, успевшей унести миллионы жизней. Кстати, судя по неспокойной атмосфере в сегодняшней Америке в канун очередных президентских выборов, эта тема не потеряла свой актуальности, продолжая как и прежде подпитывать антисемитские настроения.
Понимая всю важность задачи, возложенную на плечи Англии в связи с обнародованием Декларации Бальфура, Черчилль вместе с тем не питал иллюзий о её скорой и успешной реализации, даже при наличии мощного административного ресурса в виде Мандата Лиги Наций на управление Палестиной. Вместе с тем он убежденно рассчитывал на созидательную роль еврейских переселенцев, способных и не менее обязанных вдохнуть новую струю в обновление жизни арабских аборигенов, доказать им на собственном опыте, что их нынешняя унылая беспросветная повседневность может иметь и другие, многократно более привлекательные оттенки. Достаточно часто посещая в 20-е годы в качестве высокого официального правительственного чиновника Палестину, Черчилль старался развеять среди местного населения и его лидеров опасения, что евреи мечтают лишь об их порабощении и эксплуатации, захвате собственности.
Будучи от природы всесторонне одарённым человеком, искусно владея словом и острым пером, Уинстон убеждал со страниц газет и в публичных выступлениях перед большими аудиториями о всей благодатности Декларации Бальфура, о живительном благе соседства и дружбы между евреями и арабами. Если эмиру Абдалле в Иерусалиме он доказывал, что «у живущих в Палестине арабов много беспочвенных опасений» (с. 76), то в еврейской среде он говорил, что «на вас, евреях Палестины, лежит великая ответственность: вы представляете здесь весь еврейский народ, рассеянный по всему миру, и ваше поведение должно создавать пример для евреев во всех странах» (с.77-78).
Причём, будучи и от природы, и по воспитанию человеком слова, он отвергал любые попытки поставить под сомнения вероятность реализации на практике высоких обязательств перед еврейским народом. «Вы просите меня, - терпеливо разъяснял он одной из арабских депутаций, - прежде всего отменить Декларацию Бальфура и запретить иммиграцию евреев в Палестину. Не в моей власти сделать это. Но даже если бы я и мог сделать это, то оно не соответствовало бы моим желаниям».
Евреи же, в свою очередь, убеждали высокого посланца Англии: «Наше языковое, расовое и историческое родство с ними придаёт уверенность в том, что со временем мы сможем добиться полного взаимопонимания с арабами» (с. 83). Черчилль уверенно отвечал на это: «Я сам совершенно убеждён, что дело сионизма – из числа тех, что приносят добро всему миру, а не только еврейскому народу, и что оно принесёт процветание, благосостояние и прогресс арабскому населению этой земли» (Там же). Должно было пройти почти 100 лет, чтобы подобные пророческие мысли прозвучали в наши дни при подписании «Соглашений Авраама» и нашли в них своё отражение. Чудо и только!
Однако вместе с этими яркими обнадёживающими красками в жизнь вторгалось немало острых проблем противостояния с местными противниками увеличения еврейского населения Палестины. За 17 лет, с 1922 по 1939 г., сюда прибыло 400 тыс. новых еврейских поселенцев, что вызывало открытые протесты со стороны аборигенов. Повсеместно лилась кровь, в Лондоне усиливались споры по поводу «разумных пределов наводнения Палестины евреями», были слышны голоса тех, кто серьёзно опасались «большевизации» региона за счёт бесконтрольно прибывающих сюда новосёлов. Уже 26 июля 1922 г., спустя несколько дней после получения Англией от Лиги Наций Мандата на управление Палестиной, Хаим Вейцман, лидер сионизма, писал Черчиллю: «Мы передаём вам и всем, кто связан с вами в Министерстве по делам колоний нашу самую искреннюю благодарность... за ту огромную роль, которую вы сыграли в обеспечении возможности воссоздания национального очага еврейского народа в Палестине...» (с. 110-111). Впереди ещё было долгих 25 лет, отделяющих евреев от их многовековой мечты, наполненных не только героическим созиданием новой жизни, удесятиряющих энергию людей, познающих запахи родной земли, но и ожесточенной борьбой, реками крови за право возвратиться в свой исконный дом. Анализируя причины этого противодействия, Черчилль говорил: «У арабов нет причин быть противниками евреев... Арабы обязаны всем, что они имеют еврейской инициативе. Насилие с их строны вызвано фанатизмом и завистью» (с. 119). Всё правильно, но как жить в подобной атмосфере непрекрытой вражды, работать, строить, создавать семьи, мечтать о счастье?
Следует отдать должное Черчиллю, ибо, развивая в принципиально иных исторических условиях Декларацию Бальфура, а уже шли горячие 30-е годы, следом война, Холокост, он создаёт серьёзную концепцию возрождения еврейского государства во враждебном окружении. Мне думается, что именно эта концепция, впитавшая всю сложность тяжелейшей атмосферы возрождения Израиля, сыграла одну из решающих ролей в торжестве этого великого проекта (с. 138 – 155). Мало того, усилия Уинстона стали, в определённым смысле, прелюдией для нынешних Соглашений Авраама, которые, смеем надеяться, имеют большую перспективу в деле умиротворения Ближнего Востока.
В апреле 1955 г. Черчилль отошёл от большой политики, отдав ей полвека своей яркой напряженной жизни. В 1965 г. его не стало. За все эти годы он ни разу не усомнился в правоте своих взглядов и действий, как в части возрождения Израиля, так и последующей его поддержки всеми возможными способами. Хотя очень часто эти действия расходились с официальной линией Лондона. А потому этот человек занимает особое место в летописи новейшей истории еврейского государства и глубоко почитаем нашим народом.
В.Кандинов
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИЛИ ПОЧЕМУ УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ БЫЛ УБЕЖДЁННЫМ СИОНИСТОМ?
Typography
- Smaller Small Medium Big Bigger
- Default Helvetica Segoe Georgia Times
- Reading Mode